

Форум »
Филология »
Герменевтика и феноменологическая критика »
Герменевтика »
007 Мифокритика
Это форум для студентов вуза.
Участие сторонних пользователей
не предусмотрено.
|
007 Мифокритика - Форум
|
007 Мифокритика
| |
| readeralexey | Дата: Пятница, 26.09.2025, 12:34 | Сообщение # 1 |
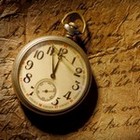 Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 613
Статус: Offline
| С какими жанрами, типами героя, сюжетами, произведениями в трагическом модусе связывает Н. Фрай такие понятия, как "торжественное сочувствие", "элегическое настроение", "катарсис", "пафос", "ирония"?
С какими жанрами, типами героя, сюжетами, произведениями в комическом модусе связывает Н. Фрай такие понятия, как "мифическая комедия", "идиллическое начало", "высокая миметическая комедия", "низкая миметическая комедия", "ироническая комедия"?
Назовите все "перекрестные" классификации литературных явлений, которые создает Н. Фрай.
Разберите какое-нибудь произведение с позиции мифокритики.
***
Прокомментируйте:
"Унижение или изгнание шутов, клоунов, арлекинов или простаков является, возможно, наистрашнейшей иронией в искусстве, свидетельство тому — изгнание Фальстафа и некоторые эпизоды в фильмах Чаплина." (Н. Фрай. "Анатомия критики")
"Научившись различать модусы, мы должны научиться группировать их. Если один из модусов обычно определяет основную тональность произведения, то любой другой, а иногда и все остальные четыре могут одновременно в нем присутствовать. Многое из того, что мы называем тонкостью изображения в великих произведениях, связано с модальным контрапунктом. <...> Тональность «Антония и Клеопатры» — высокомиметическая, это повествование о гибели вождя. Но вполне допустимо взглянуть на Марка Антония и с иронической точки зрения, как на раба своей страсти; легко рассмотреть в нем присущие и нам слабости; вместе с тем можно также увидеть в нем бесстрашного и стойкого героя сказаний, искателя приключений, обманутого ведьмой; и наконец, в нем проступают даже черты существа сверхъестественного, оседлавшего море и павшего жертвой рокового предначертания, внятного лишь прорицателям. Не учесть хотя бы один из этих уровней — значит упростить и снизить содержание драмы. С помощью подобного анализа мы должны прийти к осознанию того, что факт современности произведения искусства своей эпохе и факт его актуальности для нашего времени не противоречат друг другу, на друг друга дополняют." (Н. Фрай. "Анатомия критики")
"Наш анализ литературных модусов показал также, что сам миметический модус, то есть стремление к правдоподобному и точному изображению, является лишь одной крайней тенденцией литературы. Противоположная же ей тенденция связана с Аристотелевым понятием «mythos» и с нашим обычным значением слова «миф»; это — тенденция создавать повествования, которые по своей родословной являются историями о всемогущих героях, лишь со временем начинающими тяготеть к признанию необходимости понятий возможного или вероятного действия. Мифы о богах перерождаются в легенды о героях, легенды о героях — в сюжеты трагедий и комедий, а последние в сюжеты более или менее реалистической литературы. Но мы имеем здесь дело больше с изменением социального контекста, чем литературной формы, так что конструктивные принципы повествовательного искусства остаются неизменными, хотя, разумеется, и приспосабливаются к новым эпохам.
Том Джонс и Оливер Твист — весьма типичные герои низкого мимесиса, но связанный с ними мотив таинственного происхождения выступает как обработанный с точки зрения законов правдоподобия сюжет, восходящий к Менандру, от Менандра — к «Иону» Еврипида, а от последнего — к легендам, подобным сказаниям о Персее или Моисее.
Отметим попутно, что результатом подражания природе в повествовательной литературе является не «истина» или «реальность», но правдоподобие, которое может входить в произведение и на правах поверхностного, необязательного компонента, как в мифе или в сказке, и на правах главного изобразительного принципа, как в натуралистическом романе.
Оценивая историю литературы в целом, можно сказать, что высокий и низкий миметические модусы представляют собой своего рода смещенные мифы, или мифологические сюжетные клише, постепенно сдвигавшиеся к противоположному им полюсу правдоподобия, но затем, с появлением иронии, начавшие движение в обратную сторону." (Н. Фрай. "Анатомия критики")
"Теперь следует рассмотреть, каким образом наша система модусов может быть применена к тематической стороне литературы. <...>
В сюжетно-изобразительных произведениях мы выделили две основные тенденции — «комическую», связанную с интеграцией героя в обществе, и «трагическую», предполагающую его изоляцию. В тематической литературе поэт может выступать как индивидуальное лицо, подчеркивающее независимость своей личности и свою особую точку зрения. Такая позиция приводит к появлению лирики и эссеистики, разных произведений «на случай». Встречающиеся здесь проявления протеста, жалобы, насмешки, чувство одиночества (как печального, так и безмятежного) позволяют усматривать в них огрубленный аналог трагических литературных модусов. <...> Если мы обозначим творчество выделенного из общества индивида как «лирическую», а поэзию глашатая общественного мнения как «эпическую» тенденцию (сопоставив их с более «драматичной» сюжетно-изобразительной литературой), то, пожалуй, получим предварительное представление о них.
<...>
...многие современные критические концепции строятся на почве ограниченного исторического материала. В наше время в литературе преобладает иронический провинциализм, для которого характерны стремление к полной объективности, вынесение за скобки моральных оценок, концентрация внимания на сугубо профессиональных аспектах искусства и прочие подобные достоинства. Романтический провинциализм, повсюду ищущий гения и проявлений выдающейся личности, представляется более старомодным, хотя и не совсем сдавшим свои позиции. Что касается высокого миметического модуса, то он долго имел педантичных адептов, пытавшихся следовать его канонам идеальной формы не только в XVIII, но и в XIX веке. Мы же исходим из убеждения, что никакая литературно-критическая система, обобщающая художественную практику лишь одного из разобранных модусов, не может заключать в себе всю правду о поэзии. Необходимо отметить общую тенденцию всех модусов к резкому отталкиванию от своего ближайшего предшественника и (в меньшей степени) их стремление к сближению со своим «модальным дедом». Так, гуманисты высокомиметического века в целом презирали «выдумщиков и беззастенчивых лгунов», как назвал их Э. С у Спенсера, имея в виду авторов средневековых романов. Однако, как мы можем видеть у Сидни, они без устали отстаивали значение поэзии, ссылаясь на ее социальную роль в период собственно мифологической фазы. Они были склонны считать себя чем-то вроде светских прорицателей, вещающих от имени природы, откликающихся на события общественной жизни как оракулы, посвященные в таинства социальных и природных законов. Романтики — тематические поэты низкомиметического периода — презирали принцип следования природе, провозглашенный их непосредственными предшественниками, но зато вернулись к модусу сказаний и легенд. Романтическую традицию в английской литературе продолжили в основном викторианцы, что указывает на преемственность литературного модуса, а затяжная антиромантическая революция, начавшаяся около 1900 года (во французской литературе — несколькими десятилетиями раньше), открыла путь иронической поэтике. В этом новом модусе тяга к социальной камерности, к эзотеризму, ностальгия по аристократизму, породившая столь различные явления, как роялизм Элиота, элитаризм Паунда и культ рыцарства у Йитса, свидетельствуют об определенном возврате к высокомиметическим стандартам. Восприятие поэта как своего рода придворного, а поэзии — как служения владыке, культ общения внутри элитарной группы — таковы признаки высокомиметической поэтики, получившие выражение в литературе XX века, особенно в рамках символистской традиции, начиная с Малларме и кончая Георге и Рильке. Некоторые отклонения от этой тенденции кажутся таковыми лишь на первый взгляд. Фабианское общество, например, во времена вступления в него Бернарда Шоу было настолько замкнутой группой, что могло бы удовлетворить самого Йитса; а как только фабианский социализм приобрел ха-рактер массового движения, Шоу превратился в человека, которого можно определить как разочарованного роялиста. Кроме того, мы замечаем, что каждый период западной культуры откровенно использовал наиболее близкие ему по модальности образцы античной литературы: романизированные версии Гомера — в средние века, эпос Вергилия, диалоги Платона и мотивы куртуазной любви у Овидия — в высоком мимесисе; римскую сатиру — в низком мимесисе; самые поздние проявления латинской культуры — в иронической фазе, представленной, например, романом Гюисманса «Наоборот». Исходя из нашего обзора литературных модусов, можно увидеть, что поэт никогда не имитирует «жизнь» в том смысле, что жизнь оказывается чем-то «большим», чем содержание его произведения. В каждом модусе он накладывает одну и ту же мифологическую форму на данное ему содержание, но по-разному ее применяет. Подобным же образом в тематических модусах поэт никогда не имитирует мысль иначе как в смысле наложения на нее литературной формы. Непонимание этого обстоятельства ведет к ошибке, которая может быть обозначена общим термином «экзистенциальная проекция».
<...>
каждый литературный модус вырабатывает свою собственную экзистенциальную проекцию. Мифология проецирует себя в качестве теологии: это значит, что мифопоэтический автор исходит из приятия определенного числа мифов в качестве «правдивых» и создает свою поэтическую структуру в соответствии с ними. Сказание населяет мир фантастическими, обычно невидимыми существами и силами — ангелами, демонами, феями, призраками, волшебными животными, духами, подобными духам в «Буре» или в «Комусе». В этом модусе творил и Данте, хотя он изображал только такие сверхъестественные существа, которые было признаны христианским вероучением, и никакие другие. Впрочем, для более поздних поэтов, обращающихся к поэтике сказания, для Йитса например, вопрос о том, какие из этих духов «действительно существуют», незначителен. Высокий мимесис по преимуществу выдвигает на первый план квазиплатоновскую философию идеальных форм, подобных любви и красоте в гимнах Спенсера или различным добродетелям в «Королеве фей», а низкий мимесис — главным образом философию генетического и органического единства, как это имеет место у Гёте, во всем находившего единство и способность к развитию. Экзистенциальной проекцией иронии является, пожалуй, сам экзистенциализм; а возвращение иронии к мифу сопровождается не только упомянутыми выше теориями цикличности истории, но и на последней стадии широким увлечением сакральной философией и догматической теологией.
<...>
В «Федре» поэзия рассматривается по преимуществу как миф, причем этот диалог образует своего рода комментарий к платоновской концепции мифа; в «Ионе», где на первый план выдвинута фигура певца или рапсода, рассматриваются прежде всего энциклопедическая и «мемориальная» концепции поэзии, типичные для модуса сказаний; в «Пире», где выводится Аристофан, утверждаются законы высокого мимесиса, вероятно наиболее близкие самому Платону; знаменитый спор в конце «Государства» может рассматриваться как полемика против низкомиметического элемента в поэзии, а в «Кратиле» мы знакомимся с ироническими приемами: двусмысленностью, словесной игрой, пароиомасией — со всем тем аппаратом, который возрожден современной критикой, занимающейся поэзией иронического модуса,— критикой, словно по иронии судьбы получившей название «новой». Далее, различие в акцентах, которое мы описали как различие между литературно-изобразительными и тематическими модусами, соответствует различию между двумя взглядами на природу литературы — взглядами, проходящими через всю историю критики. Это соответственно эстетическая и созидательная, аристотелевская и лонгинианская концепции, представления о литературе как о продукте или же как о процессе. Для Аристотеля произведение есть продукт действия techne, иначе говоря, эстетический артефакт: его как критика интересуют главным образом объективные литературные формы, и центральным понятием его учения является катарсис. Катарсис предполагает отстраняющую дистанцию зрителя как по отношению к самому произведению, так и по отношению к его автору. Выражение «эстетическая дистанция» часто употребляется в современной критике, но оно едва ли не тавтологично, ибо там, где есть эстетическое отношение, там имеет место эмоциональная и интеллектуальная отстраненность. Аристотель не разработал принципы катарсиса для таких литературных форм, как комедия и сатира; они остались не разработанными и в дальнейшем. В тематических видах литературы внешняя связь между автором и читателем оказывается более явной, и поэтому здесь чувства сострадания и страха скорее являются средством возбуждения или сдерживания, нежели очищения. В катарсисе чувства эти очищаются благодаря тому, что они отнесены к определенным объектам; там же, где их возбуждают специально в расчете на ответную реакцию, они лишены подобной соотнесенности и оказываются просто элементами душевного состояния. Мы уже отмечали, что беспредметный страх, страх как состояние души, предшествующее боязни чего-то конкретного, ныне принято обозначать словом Angst «тревога», которое далеко не полностью охватывает диапазон чувств, простирающихся от удовольствия в «Il Реnseroso» до боли в «Цветах зла». К широкой сфере удовольствия относится и категория возвышенного, где суровость, уныние, величественность, меланхолия и даже опасность могут стать источником романтической медитации. Подобным же образом мы определили сострадание, не направленное на какой-либо конкретный объект, как анимизм в сфере воображения, наделяющий человеческими качествами различные явления природы и включающий в себя понятие прекрасного, которое традиционно соотносится с понятием возвышенного. Понятие «красота» находится в том же отношении ко всему малому, в каком понятие «возвышенное» находится по отношению ко всему великому, и тесно связано с представлением об утонченном и изысканном, [...] Подобно тому как катарсис является центральной категорией аристотелевской концепции литературы, экстаз и погруженность — центральные понятия концепции Лонгина. Это — процесс отождествления, в который оказываются вовлечены читатель, произведение и — в идеале — сам поэт. Мы сказали «читатель», ибо концепция Лонгина касается главным образом тематического и индивидуализированного читательского восприятия, она в большей степени применима к лирике, подобно тому как концепция Аристотеля — к драме. Впрочем, обычные категории не всегда оказываются вполне пригодными. В «Гамлете», как показал Т. С. Элиот, сила эмоций героя не соответствует объектам, на которые она направлена; из этого верного замечания следует сделать вывод, что «Гамлет» должен рассматриваться скорее как трагедия, в основе которой лежит Angst, или меланхолия, как душевное состояние, взятое само по себе, нежели как аристотелевское подражание действию. С другой стороны, недостаток эмоциональной сопричастности, вызываемой «Люсидасом», рассматривался многими, включая Джонсона, как изъян элегии, однако вернее то, что «Люсидас», как и «Самсон-борец», должен прочитываться в категориях катарсиса, умиротворяющего страсть."
(Н. Фрай. "Анатомия критики")
|
| |
|
|
| sophianesterenok | Дата: Понедельник, 10.11.2025, 21:52 | Сообщение # 2 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Статус: Offline
| С какими жанрами, типами героя, сюжетами, произведениями в трагическом модусе связывает Н. Фрай такие понятия, как "торжественное сочувствие", "элегическое настроение", "катарсис", "пафос", "ирония"?
"Торжественное сочувствие" олицетворенной природы относится в сказаниях и легендах к умирающему (способному умирать) божеству; в более реалистическом произведении указывает на то, что герою свойственны черты, присущие мифологическому модусу (например, Мери в балладе Чарльза Кингсли "Sands of Dee" сопоставляется с Андромедой).
"Элегическое настроение" связано с ощущением, что "дух покидает природу", в случае смерти или изоляции героя-полубога (например, смерть Беовульфа или Роланда). Позднее этому элегическому началу сопутствует "грустное ощущение уходящего времени", как, например, в "Явлении Артура" Теннисона.
"Катарсис" (сострадание и страх), концентрированная эмоция лежит в основе высокой миметической трагедии: "отвлеченное сострадание или абстрактный интерес к жертве превращаются в тему ее рыцарственного спасения, непосредственное сострадание или нежность — в томное и легкое очарование, а сострадание без конкретного объекта — в творческую фантазию".
"Пафос" — эмоциональное возбуждение, вызванное состраданием и страхом в низкой миметической или бытовой трагедии, где мы сочувствуем слабому или одинокому герою. Фигурой пафоса может быть безответная жертва (ребенок, животное, слабое умом существо). Трагедия может быть вызвана неспособностью вернуться в привычный или желаемый социальный круг (аналог сюжета о "поражении вождя") или несоответствием между внутренней и внешней жизнью героя, обычно героя-обманщика ("alazon") — например, хвастливого воина (Отелло) или одержимого философа (Фауст).
Понятие иронии связывается с "умением спрятать глубокий смысл за непритязательным художественным фасадом"; автор не высказывает моральных оценок, изображает жизнь такой, какая она есть. В трагической ситуации характер иронического героя не должен соотноситься с развязкой, все неизбежно происходит по воле случая, как следствие существования героя. Такие случайные жертвы, не заслуживающие своей кары — Прометей, Эстер Принн, герой "Процесса" Кафки.
++++
A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion.
|
| |
|
|
| davydenkololita | Дата: Четверг, 13.11.2025, 21:05 | Сообщение # 3 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Offline
| Я не вполне понимаю методологическую ценность этой теории, она выглядит скорее как нечто, редуцирующее произведения до каких-то признаков, по которым они относятся к тем или иным "прототипам" и интерпретируются не per se, но за счет прототипов, причем часто рассуждение не продвигается дальше проведения каких-то аналогий между прототипами и произведениями, распределёнными по категориям "высокого" и "низкого":
Цитата каждый литературный модус вырабатывает свою собственную экзистенциальную проекцию. Мифология проецирует себя в качестве теологии: это значит, что мифопоэтический автор исходит из приятия определенного числа мифов в качестве «правдивых» и создает свою поэтическую структуру в соответствии с ними. Сказание населяет мир фантастическими, обычно невидимыми существами и силами — ангелами, демонами, феями, призраками, волшебными животными, духами, подобными духам в «Буре» или в «Комусе». В этом модусе творил и Данте, хотя он изображал только такие сверхъестественные существа, которые было признаны христианским вероучением, и никакие другие. Впрочем, для более поздних поэтов, обращающихся к поэтике сказания, для Йитса например, вопрос о том, какие из этих духов «действительно существуют», незначителен.
Между тем, в рассуждение вплетены размышления о философских теориях, которые также классифицируются, по тем же категориям "высокого" и "низкого":
Цитата Высокий мимесис по преимуществу выдвигает на первый план квазиплатоновскую философию идеальных форм, подобных любви и красоте в гимнах Спенсера или различным добродетелям в «Королеве фей», а низкий мимесис — главным образом философию генетического и органического единства, как это имеет место у Гёте, во всем находившего единство и способность к развитию. Экзистенциальной проекцией иронии является, пожалуй, сам экзистенциализм; а возвращение иронии к мифу сопровождается не только упомянутыми выше теориями цикличности истории, но и на последней стадии широким увлечением сакральной философией и догматической теологией.
В сущности, теория основана на том, чтобы распределить по выделенным автором признакам все вербальные проявления человеческого сознания на "высокие" и "низкие", а затем искать взаимосвязи между ними в этих категориях.
+++
|
| |
|
|
|
|












